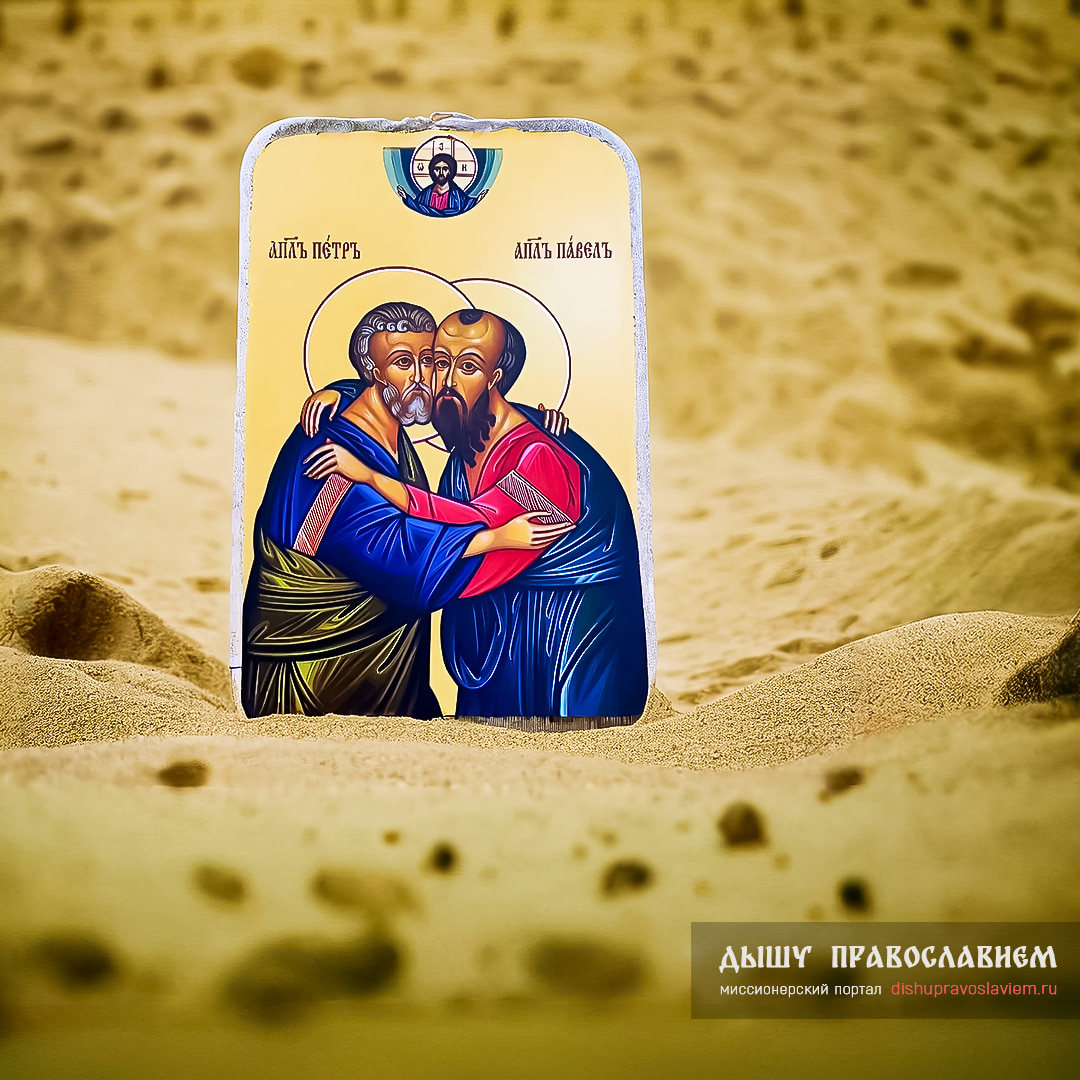ПЕТР И ПАВЕЛ: ПОЧЕМУ НАМ НЕДОСТУПЕН ДУХ ПЕРВЫХ ВЕКОВ?
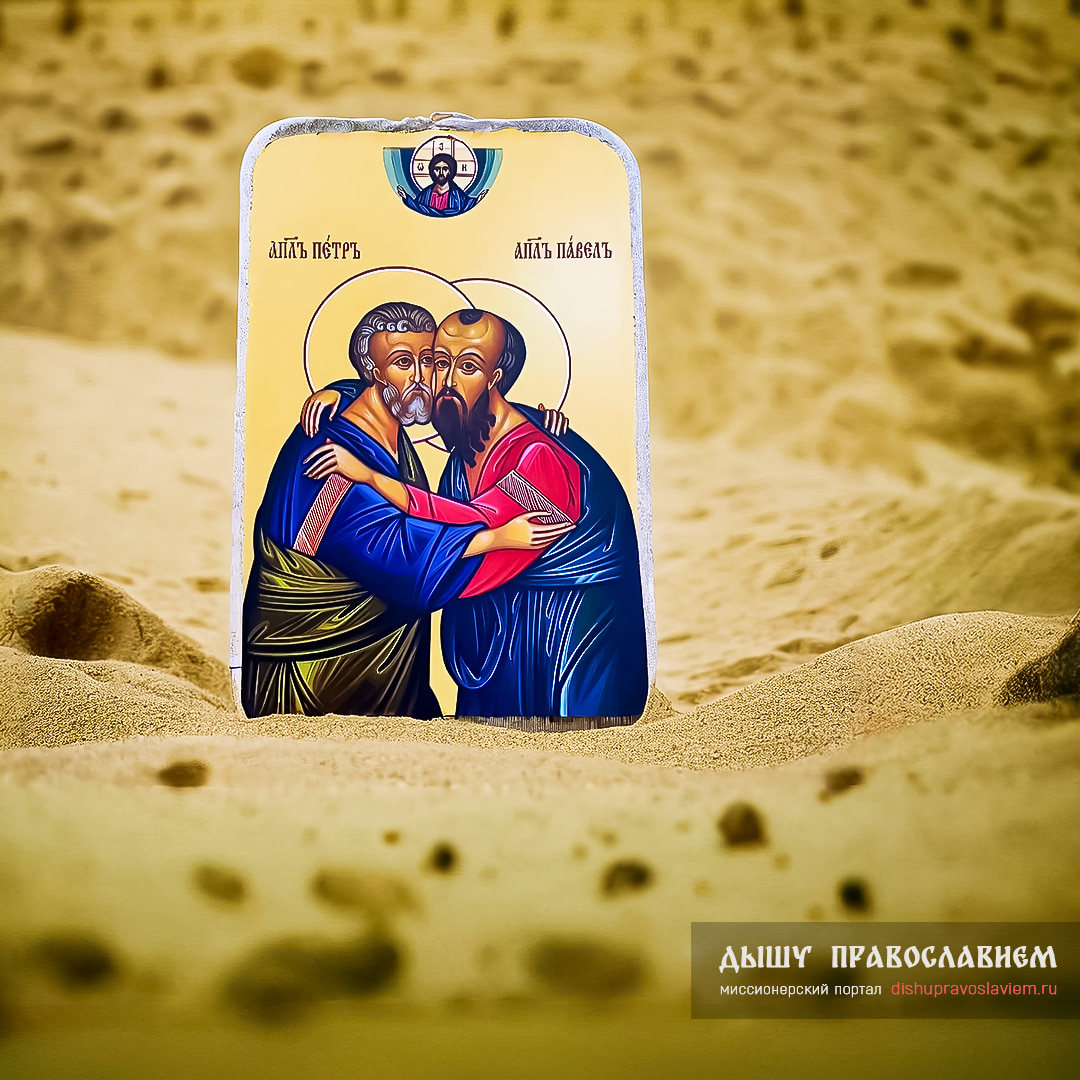 В день празднования памяти первоверховных апостолов, хотелось бы затронуть не тему их жития, не тему их проповеди или подвига. Хочется поговорить о духе первых веков христианства. Хочется поговорить именно потому, что там есть вещи, которые заставляют остановиться. Задуматься не только умом, но и всем нутром. Лет 8 назад ко мне в руки попалась дореволюционная книга в которой автор собрал древние свидетельства о мученичестве христиан. Там были разные римские протоколы, цитаты, выписки. Но, один фрагмент настолько сильно впечатлил меня, что уже много лет, буквально стоит перед глазами.
В день празднования памяти первоверховных апостолов, хотелось бы затронуть не тему их жития, не тему их проповеди или подвига. Хочется поговорить о духе первых веков христианства. Хочется поговорить именно потому, что там есть вещи, которые заставляют остановиться. Задуматься не только умом, но и всем нутром. Лет 8 назад ко мне в руки попалась дореволюционная книга в которой автор собрал древние свидетельства о мученичестве христиан. Там были разные римские протоколы, цитаты, выписки. Но, один фрагмент настолько сильно впечатлил меня, что уже много лет, буквально стоит перед глазами.
Представьте: Рим. Древняя арена. Гул толпы, жаждущей крови. Лев только что швырнул молодую христианку на песок. Крики на арене усилились. Удар был так силен, что ее скромная туника задралась, обнажив нагое девичье тело. И вот, в эти мгновения, когда клыки зверя уже готовы впиться в плоть, ее рука совершает движение – не отталкивая льва, не закрывая лицо, а… поправляя одежду, закрывая наготу. Чтобы не смутить, не соблазнить наготой тех людей, которые пришли посмотреть на ее смерть. Чтобы не добавить греха для этих людей. Ее палачей и зрителей…
Этот факт, сохраненный историей гонений во времена Диоклетиана, поражает меня не жестокостью казни, а именно этим последним жестом. Жестом невероятной, почти немыслимой ответственности и любви, простирающейся даже к палачам. В нем – словно кристалл, в котором преломилась вся суть того, раннехристианского духа: святость – не в громких словах или только в готовности умереть, а в этой тихой, внутренней силе, которая даже в последний миг думает о другом, а не о себе. О его душе, о соблазне…
Этот же дух, эта внутренняя направленность вовне, преодолевающая инстинкт самосохранения и самолюбия, пронизывала будни первых христиан, которых по всему миру крестили апостолы. Возьмите милостыню. Есть древние тексты в которых видно, что для первых христиан это было не просто «подать нищему». Они чувствовали в этом духовную подмену, вспоминая вдову, которая отдала последние две лепты. Дать от излишка, от того, что не жалко, – это было слишком просто, почти лицемерно для наших предков. Истинной жертвой, угодной Богу, считалось дать от необходимого. Поделиться тем, что нужно самому. Как если бы мы сегодня, зная цену своему обеду, скажем, в 500 рублей, осознанно потратили лишь 250, а остальные отдали тому, у кого нет и этого. Не «мелочь из кармана», а сознательное уменьшение своего комфорта, своей сытости – ради другого. Так они жили. Так дышали. Так свидетельствовали о Христе не в громких словах с амвона, а в толчее рынка, у ворот дома, в повседневной жизни. В этом поступке – та же внутренняя свобода от своего «я», что и в жесте девушки на арене. Свобода, которая позволяет видеть ближнего через призму отказа от собственного «я».
И вот здесь, глядя на этот кристалл – на мученицу, поправляющую тунику, и на древнего христианина, делящего свой хлеб, – мы невольно ощущаем дистанцию. Почему этот образ девушки кажется нам таким далеким, почти мифическим? И почему столь же далекой, почти непосильной, кажется мысль о том, чтобы сознательно уйти чуть голодным, отдав часть своего? Ведь разделяли не миллионы, а всего лишь половину обеда. И поправила тунику не мифическая богиня, а обычная девушка, такая же, как многие из нас. Что же стоит между нами и этой простотой подвига в повседневности? Что затмило в нас эту способность к малому, но конкретному самоотвержению ради другого?
В отличии от апостольского и пост-апостольского времени, мы живем в эпоху громких слов. Особенно заметно это в пространстве веры. Часто слышны призывы к запретам, требования к государству (запретите то, запретите это), громкие обличения властей, общества, «духа времени», апокалиптические предсказания. И нельзя не заметить: чем категоричнее, чем громче звучат эти голоса, тем больше они привлекают внимания, собирают слушателей. Мы стали знатоками правил, цитат, канонов, мастерами богословских дискуссий и социального анализа. Но вот простое дело: те самые 250 рублей, отданные так, что это почувствуешь. Или – сдержать раздраженное слово, когда тебя толкнули. Или – не возмутиться гневно, столкнувшись с мелкой несправедливостью по отношению к себе. Вдруг оказывается, что это – область куда больших внутренних усилий, чем произнести обличительную речь. Почему слова, даже самые резкие, даются нам легче, чем малое, но конкретное, личное действие милосердия или сдержанности?
Мне кажется, ключ лежит в том, как мы научились воспринимать самих себя. Эгоизм – вечен, он часть нашей падшей природы. Но сегодня он возведен на пьедестал. «Люби себя!», «Цени себя!», «Ты – главное!» – эти атихристианские установки звучат повсюду, от рекламы до популярной психологии. Кажется, речь о здоровом самоуважении? Но присмотритесь: в этой постоянной, навязчивой фокусировке на своем «я», оно раздувается до невероятных размеров. Оно заслоняет ближнего. Оно заслоняет Бога. Мы хотим лучшей жизни? Конечно. Но часто требуем ее от других. Наш взгляд устремлен вовне: «Пусть они изменятся! Пусть власть наведет порядок! Пусть церковь в лице Патриарха скажет им всем!». А взгляд той девушки на арене, взгляд христианина, делящего хлеб, был устремлен вовнутрь и к Богу. Их сила, их свобода, которой они научились от апостолов, рождалась не от ожидания перемен в мире, а от присутствия иного Царства внутри сердца. Их последний жест, их малая жертва – были не требованием к миру, а плодом этого внутреннего Царства, проявлением любви, которая ищет не своего. В этом – корень разрыва. Не в веках, а в направленности сердца и источнике силы.
Это понимание – что подлинную духовность, эту внутреннюю свободу и любовь, нельзя навязать извне силой закона или запрета – было кровным знанием древних христиан. Так их научили те, чей праздник мы сегодня отмечаем. Они жили среди гладиаторских боев, публичных домов, оргиастических культов – зла куда более явного и массового, чем многое из того, что тревожит нас сегодня. Читая Иоанна Златоуста, Василия Великого, Григория Богослова, мы не найдем там требований к императору запретить бордели или накормить всех нищих государственными мерами. Их пламенное слово бичевало грех, но было обращено прежде всего к своим: «Видишь мерзость мира? Ты – не прикасайся к ней! Ты – живи по-другому! Будь светом здесь, в своей жизни!». И этот свет действовал. Он преображал жизнь самих христиан и их семей. Дети, вскормленные таким духом, становились Верой, Надеждой, Любовью не потому, что мир вокруг стал праведным, а потому что дома они видели живой пример иной жизни. Они не требовали перемен от мира. Они становились переменой внутри своего круга. Их жизнь, их тихие дела милосердия, их честный труд, их семейная верность – сами по себе были самой мощной проповедью и самым убедительным укором миру. Не криком осуждения, а молчаливым сиянием иного пути. Того пути, который сегодня напоминают нам наши дорогие апостолы Петр и Павел.
Эта внутренняя свобода проявляется и сегодня. Человек не пьет не потому, что алкоголя нет в доме, а потому что ему не хочется. Он не потребляет грязный контент не из-за блокировок
Роскомнадзора, а потому что ему противно. Этот выбор – не от страха наказания, а от внутренней чистоты, от внутренне принятых православных ценностей, от живой связи с Богом. Эту свободу нельзя декретировать. Ее можно только взрастить. Личным примером. Собственной жизнью, прожитой иначе. Как семя, брошенное в добрую почву.
Вот почему, когда священник начинает кормить бездомных (например отец Евгений Лищенюк), помогать им встать на ноги, он иногда слышит от людей, считающих себя верующими: «Зачем? Они сами виноваты!» или «Это обязанность государства!». Какой ответ возможен здесь? Даже если представить идеальное социальное государство (что утопия), всегда найдутся те, кто выпал из системы, кому нужно не пособие, а человеческое участие, не тарелка по расписанию, а слово надежды и рука помощи – протянутая не чиновником, а братом. Подлинные ученики Христа знают: их дело не в том, чтобы требовать справедливости от других или осуждать «систему». Их дело – творить милосердие здесь и сейчас, в меру своих сил, создавая островки Царства Божия среди хаоса мира. И ответ на вопрос «зачем?» лежит в той же плоскости, что и жест девушки на арене и милостыня от необходимого. Это ответ не рассудка, а любви. Любви, для которой нет рациональных объяснений перед судом эгоизма. Любви, которая видит в самом падшем – образ Божий.
Так смыкаются века. Так соединяется век апостольский и век наш. Жест девушки, поправляющей тунику перед львом. Рука христианина, отдающего часть своего хлеба. Рука волонтера, протянутая бездомному. Это – не разные вещи. Это проявления одной и той же внутренней реальности – Царства Божия, живущего в человеческом сердце и прорывающегося наружу в делах любви и ответственности. Любви, которая свободна от диктата своего «я». Ответственности, которая видит другого даже перед лицом собственной гибели или неудобства. Пока мы ищем источник проблем и перемен вовне, требуя их от кого угодно, только не от себя, пока наше «я» остается центром вселенной, – образ той девушки будет для нас прекрасной, но чужой легендой, а половина обеда – непосильной ношей. Потому что все начинается не на арене Колизея и не у раздачи пищи. Все начинается там, где рождается эта внутренняя свобода и любовь – или не рождается. В глубине человеческого сердца о чем нам говорят в своих посланиях апостолы. Там, где должно быть Царство. Или – пустота…
Анатолий БАДАНОВ
администратор миссионерского
проекта «Дышу Православием»