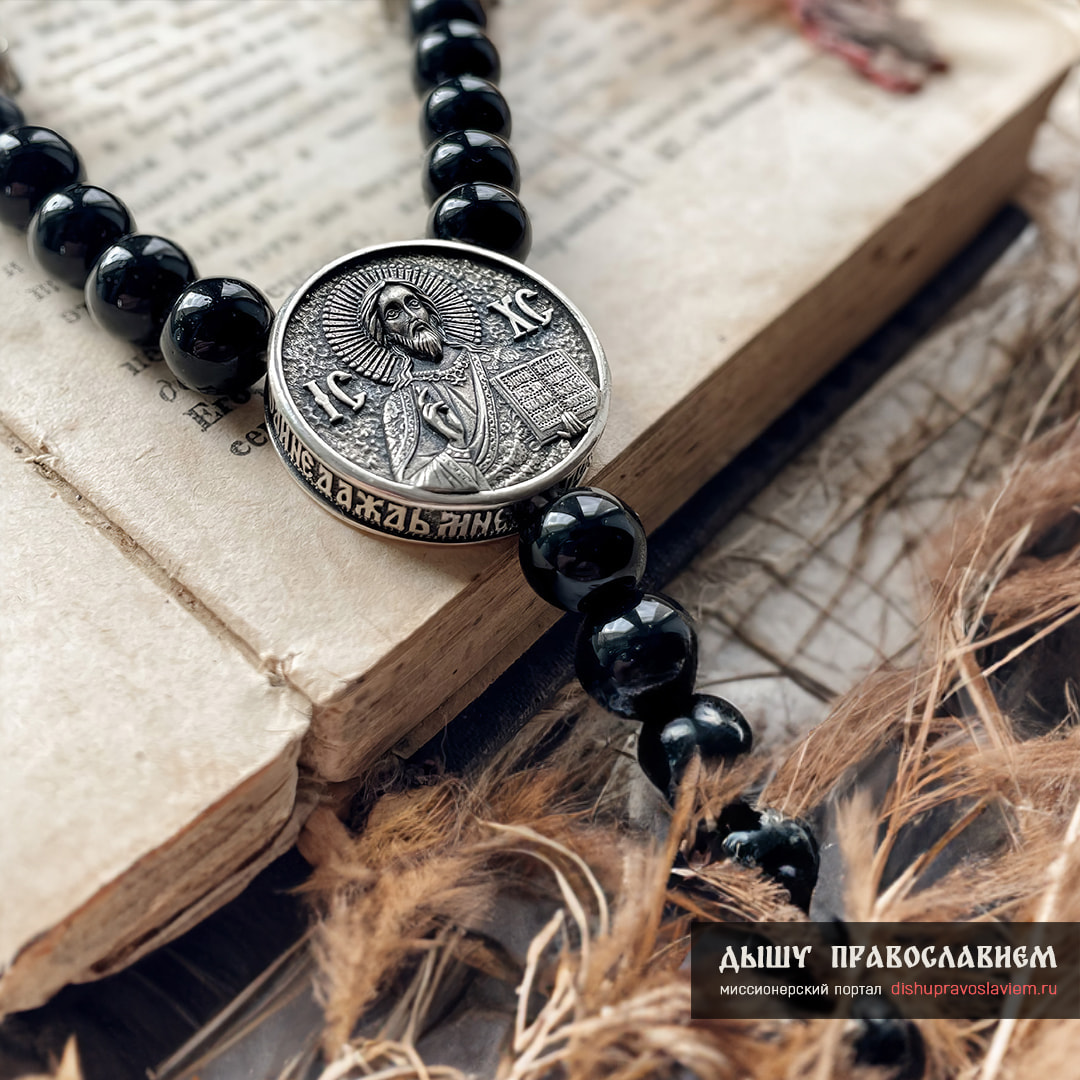ОТ МЕМОВ К… ЗАБВЕНИЮ: КАК «ПРИКОЛЫ» КРАДУТ НАШУ СУТЬ
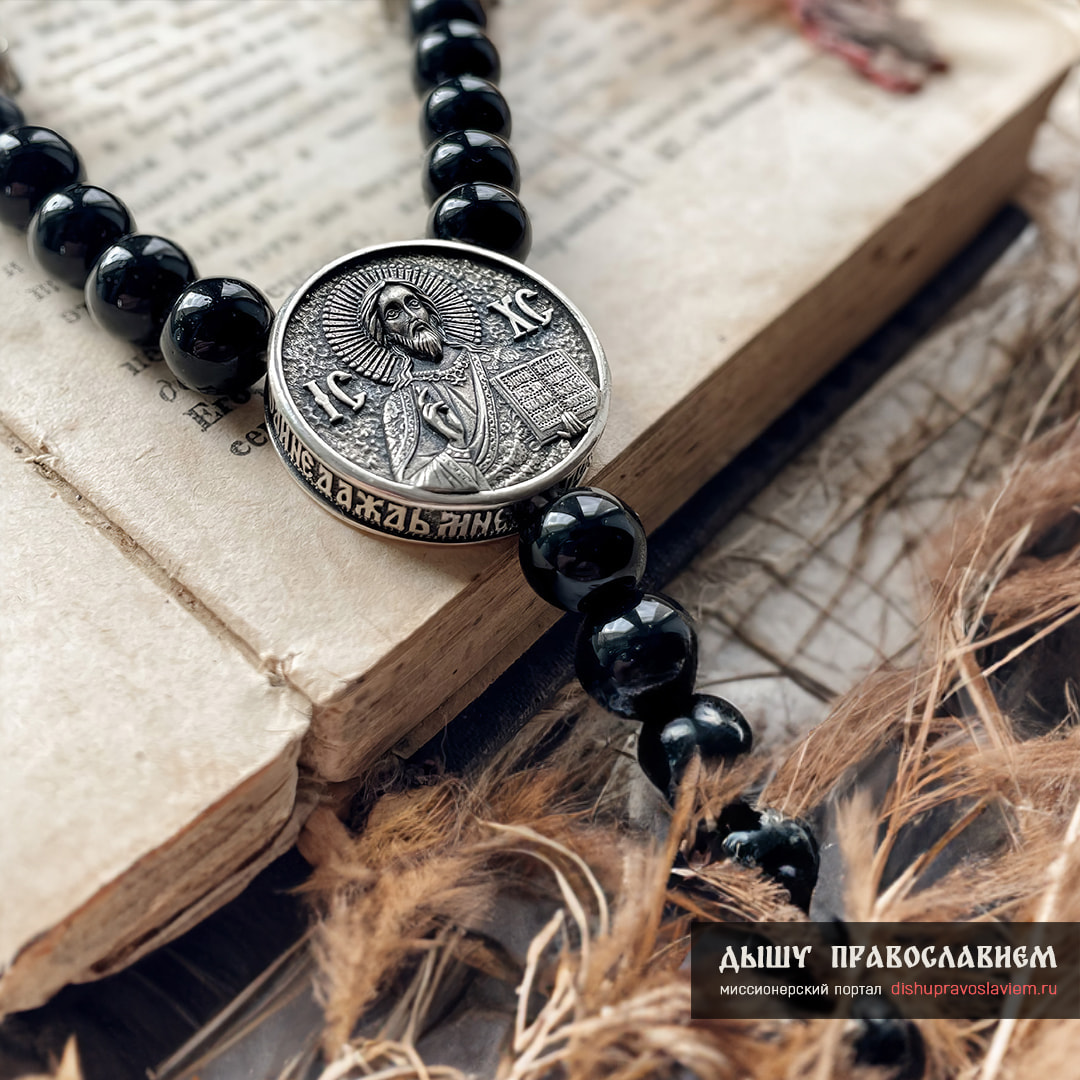 Сегодня хочется поговорить о вещах, казалось бы, несерьезных. О том, над чем мы смеемся, что считаем просто фоном, мимолетным развлечением. Сегодня один подросток поделился наблюдением, которое, на первый взгляд, звучит как анекдот, но на деле – тревожный звоночек. Он рассказывал, как смеялся над мемами, которые сам же называл «деградантом» – там слова коверкаются, сюжеты вывернуты наизнанку в откровенно тупом свете. Смешно? Наверное, поначалу да. Но дальше – интереснее. Он стал нарочито так разговаривать, так писать в переписках… Это было прикольно и смешно. И вдруг, в самый нужный момент, когда потребовалось написать грамотно, он обнаружил: а как же правильно-то? Забыл. Орфографическая память дала сбой. Словно кто-то стер нужную строчку в словаре его сознания. Он стоял и смеялся – «я забыл, как правильно пишется слово «продаёте». Постоянно говорил, как тот кот из мема – «вы рыбов прадаёте или проста показываете?» И реально забыл, как правильно пишется слово продаёте, через «о» или через «а»».
Сегодня хочется поговорить о вещах, казалось бы, несерьезных. О том, над чем мы смеемся, что считаем просто фоном, мимолетным развлечением. Сегодня один подросток поделился наблюдением, которое, на первый взгляд, звучит как анекдот, но на деле – тревожный звоночек. Он рассказывал, как смеялся над мемами, которые сам же называл «деградантом» – там слова коверкаются, сюжеты вывернуты наизнанку в откровенно тупом свете. Смешно? Наверное, поначалу да. Но дальше – интереснее. Он стал нарочито так разговаривать, так писать в переписках… Это было прикольно и смешно. И вдруг, в самый нужный момент, когда потребовалось написать грамотно, он обнаружил: а как же правильно-то? Забыл. Орфографическая память дала сбой. Словно кто-то стер нужную строчку в словаре его сознания. Он стоял и смеялся – «я забыл, как правильно пишется слово «продаёте». Постоянно говорил, как тот кот из мема – «вы рыбов прадаёте или проста показываете?» И реально забыл, как правильно пишется слово продаёте, через «о» или через «а»».
Знаете, это не просто забавный казус подростковой жизни. Это – щель, через которую виден очень глубокий, фундаментальный закон человеческого бытия. Закон, который знали древние мудрецы и который подтверждает сама жизнь. Вспомним псалом: «С преподобным преподобен будешь, <…>, и со строптивым развратишься» (Пс. 17:26-27). Со строптивым – развратишься. То есть, войдя в среду, проникнувшись ее духом, ты неизбежно начинаешь ей уподобляться, даже если поначалу просто наблюдаешь со стороны, смеешься или даже осуждаешь. Карл Маркс, мыслитель, много почерпнувший из библейской мудрости, хотя и переосмысливший ее по-своему, выразил эту же мысль жестче и, увы, понятнее для современного уха: «Бытие определяет сознание». Не абстрактное «бытие», а конкретное – то общество, те люди, тот информационный поток, который мы выбираем потреблять, в котором мы выбираем жить. Они формируют нас. Они становятся архитекторами нашей внутренней вселенной.
Вспомните пронзительные мемуары интеллигенции XX века, прошедшей сталинские лагеря по печально известной 58-й статье. Как часто там звучит мысль: внешне мы все были одинаковы – в одинаковых робах, с одинаково обритыми головами. Но спустя время эта внешняя одинаковость, эта атмосфера страха, подозрительности, выживания любой ценой начинала проникать внутрь. Человек незаметно для себя начинал мыслить, говорить, реагировать как зэк. Среда не просто окружала – она перестраивала, перековывала личность изнутри. Или возьмем классический пример – Маугли. Человек по рождению, но волк по духу. Его сознание, его ценности, его представления о добре и зле были целиком и полностью сформированы волчьей стаей. Среда стала его сутью.
Так и мы, современные люди. Выбирая определенный круг общения, определенный стиль коммуникации – как тот парень с его нарочито «мемным» языком, – выбирая потребляемый контент, который кажется нам «прикольным», «безобидным» или просто «фоном», мы невольно, а иногда и сознательно, открываем двери своей души определенным влияниям. Мы принимаем в себя ту самую «деградацию», над которой сначала смеялись. Мы уподобляемся. Об этом прекрасно знал еще в IV веке святитель Иоанн Златоуст. Он приводил такой точный и наглядный образ, не помню дословно, но суть такая: представьте человека, зашедшего в мироварню – место, где варят благовонное церковное миро. Он не мазался им, он просто был там, присутствовал. Но выходя, он несет на себе, на своей одежде, на коже этот сильный, устойчивый аромат. Он пропитался им просто через присутствие. Златоуст говорил о добром влиянии, как общение с добродетельными людьми, пропитывает нас их системой ценностей, их добродетелями. Но, закон работает в обе стороны. Зайдя в «помойку» информационную или коммуникативную, мы неизбежно пропитаемся ее «ароматом». С одними людьми, с одним контентом мы деградируем, потому что они сами несут это в себе. С другими – остаемся на плаву. С третьими – подлинно растем, обогащаемся мыслью, чувством, духом.
Этот принцип – основа основ социальной инженерии, сознательного формирования массового сознания. Вспомните, те, кому за сорок-пятьдесят, какой контраст мы пережили. Было время, когда темы, связанные с ЛГБТ, были абсолютно маргинальными, не звучали в публичном поле. Потом – робкие вкрапления в западных фильмах. Потом – в наших. Потом – модные журналы («СПИД-Инфо», «Cool» и им подобные) стали тиражировать это как часть «свободного», «продвинутого» мира. Потом – телепередачи, радиоэфиры, где это подавалось уже как норма, как часть спектра человеческих отношений. «Голубая луна» размазывалась по нашему информационному небу все гуще. И прошло не так уж много времени – лет двадцать. И что мы видим? Общество в массе своей уже не реагирует на это так, как реагировало изначально – с отвращением, агрессией, сжатыми кулаками. Постоянный, навязчивый фон присутствия этой темы сделал свое дело. Мы стали «толерантными». Появились даже «научные» и «гуманистические» обоснования: «они такими родились», «это их личное дело», «главное – любовь». Среда изменила сознание.
Или возьмем другую, казалось бы, менее идеологизированную, но не менее показательную тему – обнаженное тело на экране. Помните первый шок? Фильм «Москва слезам не верит». Там была секундная сцена, где героиня Алентовой вскочила с постели, и зритель мельком увидел обнаженную грудь. Это был взрыв! Об этом говорили все, это обсуждали, возмущались или оправдывали, но это было событием. Фильм-то шел не только в кинотеатрах, но и по центральному телевидению! Одна секунда. А теперь оглянитесь. Что мы видим сейчас? Откровенные сцены, обнаженные тела – буквально вываливаются на нас с экранов телевизоров, ноутбуков, смартфонов. Нас это уже не шокирует. Часто даже не замечаем. Что случилось? А случилось ровно то же самое. Вначале нам дали крошечную дозу. Мы вдохнули. Потом – дозу побольше. Мы принюхались. А потом мы уже и не заметили, как стали дышать этой «грязью» полной грудью, как она пропитала наше восприятие, наше отношение к интимному, к человеческому телу, к достоинству. Среда изменила норму. Изменила нас.
Так где же выход? В войне против смыслов? В тотальном запрете всего? Нет. Ответ, как это ни парадоксально, лежит в плоскости свободы. Да, той самой свободы, которой, казалось бы, так много в нашем мире. Но свобода – это не просто возможность делать что хочешь. Это прежде всего ответственность за выбор. Я, живя здесь и сейчас, в 2025 году, обладаю колоссальной свободой выбора. Выбора своего «бытия» в информационном и коммуникативном смысле. Кого я выберу себе в современники? Кто будет формировать мое сознание? Моргенштерн, Шастун, герои «Камеди Клаба» – лидеры того самого «деградантного» контента? Или я выберу быть современником Достоевского, Ахматовой, в конце концов, Андрея Рублева или Василия Великого? Их мысли, их чувства, их высота духа – доступны мне. Я свободен выбирать, на каком языке говорить и мыслить: на языке, впитавшем кучу американизмов, грубого сленга, сознательного упрощения и отупения, или на языке Пушкина, Толстого, Булгакова, Островского – языке богатом, точном, глубоком, несущем в себе вековую культуру мысли и чувства?
Мне однажды показали эту свободу. Показали, что выбор среды – это выбор пути души. Теперь об этой свободе знаете и вы. Мироварня души… В какую мироварню войдете вы сегодня? Чем пропитается ваше сознание?
Анатолий БАДАНОВ
администратор миссионерского
проекта «Дышу Православием»